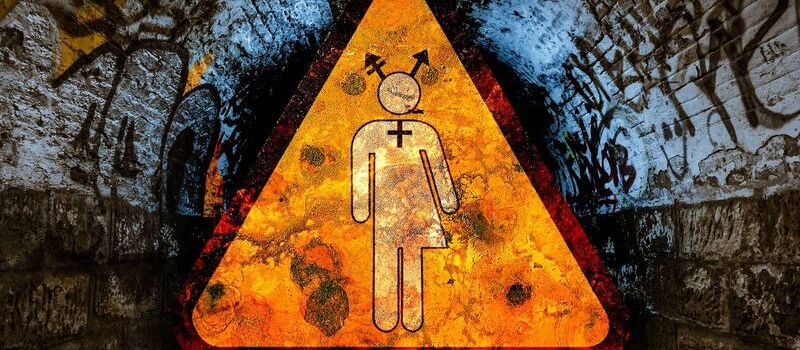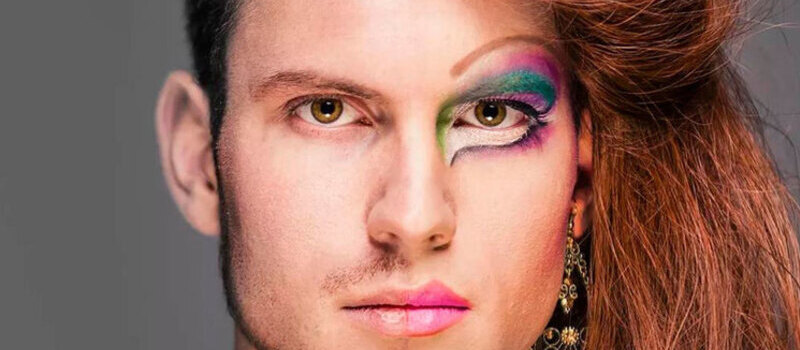С 16-17 лет возникло стремление к причинению себе болевых ощущений путем нанесения мелких поверхностных порезов, самобичевания и щипков на участках тела, обычно скрытых одеждой. Причиняя себе физическую боль, пыталась «отвлечься» от гнетущего ощущения внутренней пустоты. С того же периода стали возникать ощущения «дежа вю», эпизодически, на короткое время – ощущение нереальности, неестественности происходящего. Стала видеть повторяющиеся кошмарные сновидения с кровавыми сценами смерти, расчленения и т. п. Эпизодически возникали фантазии об убийствах незнакомых людей («Хотелось ударить ножом, разрезать на части»), массовом убийстве в школе («Представляю, как прихожу в школу с ножом и бью всех вокруг»).
Сообщает, что первоначально эти фантазии возникли после прочтения в Интернете статьи о массовом убийстве в школе. Эта информация оказала
на пациентку сильное негативное впечатление. Представляла жестокие сцены помимо воли, однако вскоре отметила, что эти мысли также позволяют ей отвлечься от тягостных переживаний. Со временем они приобрели характер ярких, детализованных фантазий, оказывающих тонизирующий эффект. Аналогичным образом фантазировала о брутальном самоубийстве – падении с высоты, смерти под колесами поезда, разрезании собственного тела. Со слов пациентки, мысли о суициде помогали восстановить чувство контроля над собственными эмоциями («Понимание того, что я могу остановить этот кошмар, в который, несмотря на все попытки сопротивления, я погружаюсь, приносило некоторое облегчение… Чувствую, что хотя бы так контролирую себя»). Одновременно с этим фантазии об уничтожении своего тела сопровождались надеждой на физическое и духовное «возрождение». В дальнейшем агрессивные и аутодеструктивные представления стали возникать помимо воли,
сопровождаясь чувством внутреннего дискомфорта. Их дезактуализации способствовало начало трансформации через изменение рациона питания.
После прекращения соблюдения «диет» мысли о самоповреждениях и самоубийстве возникли вновь и сохранялись до «осознания» пациенткой своей трансгендерности. На фоне начавшегося преобразования внешнего облика и поведения непроизвольные мысли о самоповреждениях, суициде и убийствах возникали эпизодически – преимущественно в ситуациях, когда окружающие узнавали в ней девушку. При этом резко усиливалось состоянии внутренней пустоты, «мучительной бесчувственности».
В октябре-ноябре 2017 г. (16 лет), сохраняя прежний режим питания и сна, стала испытывать усталость, сонливость, головные боли, интенсивные боли в спине. Возникла нестойкость увлечений и интересов: в разное время садилась писать фантастическую книгу, занималась спортом, записывала видеоролики. В целом деятельность стала значительно менее продуктивной. Связала ухудшение состояния со снижением веса и частично восстановила рацион питания. На фоне этого стала более явно ощущать апатию, недовольство внешностью, дискомфорт при нахождении в людных местах, рефлексия и «потребность в изменениях» («Мне становилось хуже – мне не нравилась внешность, мне не нравилось, как меня видят другие люди… Нужно было себе это как-то объяснить»).
При ухудшении эмоционального состояния вновь резко меняла режим питания, значительно ограничивая себя в пище на непродолжительное время. На этот период снова стала больше времени проводить в Интернете, просматривая различную информацию. Во время информационного дрейфа просмотрела видеоматериал о «трансгендерах». Испытала яркие эмоции – удивление, заинтересованность. Стала изучать популярные статьи об этом феномене на различных общедоступных сайтах. Сообщает, что этот интерес позволял на некоторое время преодолеть апатию. На основании полученных сведений заключила, что является «трансгендером». По словам пациентки, полученная ею информация
дала ей объяснение, почему она не может адаптироваться среди сверстников, испытывает недовольство по поводу внешности, появления женских вторичных половых признаков. Начав идентифицировать себя таким образом, испытала эмоциональное облегчение. Самоидентификация через новое название давало ей возможность преодолеть «потребность в изменениях», «установить контроль» над собственными чувствами. В тот же период изменилось поведение. Возникло желание посещать мужской туалет. По прошествии полугода, находясь в обществе родителей, стала настаивать на посещении мужского туалета. Стала заявлять матери, что чувствует себя «парнем в женском теле». Стала говорить о себе в нейтральном роде в разговорах с родителями, эпизодически также пыталась говорить о себе в мужском роде. Демонстрировала родителям недовольство своим именем. Выбрала себе новое имя – «Максим». Эпизодически представлялась им при новых знакомствах. Открыто выражала неприязнь к собственному телу. Стала носить утягивающий спортивный топ вместо бюстгалтера. Отказывалась от купания в водоемах в связи с необходимостью ношения купальника.
В марте 2018 г. (17 лет) стала более замкнутой. Сторонилась людей, крайне неохотно общалась с окружающими. Существенно сузился круг интересов. Стала редко выходить из дома, избегала посещения людных мест. Вновь возникло ощущение, что окружающие смотрят на нее недоброжелательно.
Стала раздражительной, мрачной. В переживаниях раскрывалась крайне редко. В беседах с матерью эпизодически жаловалась на «депрессию», высказывала суицидальные идеи. Обесценивала значимость своей жизни, свои интеллектуальные способности и личностные качества. Отказывалась от продолжения учебы, заявляла о нежелании идти в 11 класс. При этом конкретных планов не строила. В одном из разговоров с матерью заявила, что не уверена, что операция по изменению пола решит ее проблемы, выразила неуверенность в целесообразности ее проведения. От обращения к психиатрам отказывалась.
29.10.2018 г. обратились в ЛРНЦ «ФЕНИКС» с целью обследования.
Психический статус на момент обращения в Центр: «Пациентка явилась на прием в назначенное время, в сопровождении родителей. Одета по возрасту, в свободную одежду в стиле унисекс, достаточно опрятно. Носит укороченную стрижку на мужской манер. Косметикой не пользуется. Кожа лица бледная. Напряжена. Сидит в закрытой позе. Зрительного контакта избегает. В беседу вступает неохотно. Голос достаточной громкости. Тембр голоса явно искусственно занижен пациенткой на мужской манер. На вопрос о причине обращения саркастически улыбается, разводит руками. Заявляет, что приехала на обследование по инициативе родителей. Демонстрирует отсутствие заинтересованности в беседе, однако дистанцию с врачом соблюдает.
Крайне формальна в общении. На вопросы отвечает в целом по существу, но короткими фразами. На предложение продолжить беседу без присутствия родителей отвечает: «Мне все равно». Во время беседы наедине держится несколько более свободно. Раскрывается в переживаниях неохотно, что самостоятельно вербализует, объясняя это особенностями своего характера. Явных структурных нарушений мышления в беседе не выявляется. Сообщает, что причиной обращения в Центр стало ее желание получить справку об изменении пола. Сообщает, что с детского возраста чувствует себя «парнем», что всегда отличалась от девочек наличием «мужских интересов» (футбол, компьютерные игры и т. п.), стремлением к общению в компании мальчиков, нежеланием носить женскую одежду, а также «внутренним ощущением себя мужчиной», которое объяснить не может. После получения разрешения на изменение пола желает начать «гормональную терапию» с целью прекращения менструации, намерена произвести хирургическое удаление молочных желез.
Считает этот объем манипуляций принципиальным и наиболее значимым для нее. Хирургическую коррекцию гениталий называет необязательной. Знание о методах и правилах изменения пола крайне поверхностное. На протяжении всей беседы говорит о себе исключительно обезличено. На обращение к ней по имени реагирует спокойно. При расспросе подтверждает желание получить документы на мужское имя. Настроение характеризует как сниженное, подавленное, что связывает исключительно с полоролевыми переживаниями.
Признает наличие антивитальных идей в прошлом, которые также объясняет недовольстовом полом. Попытки самоубийства и самоповреждающее поведение отрицает. Признает наличие психофизической истощаемости. В ходе беседы выражает страх перед будущим, связанный как с гендерной дисфорией, так и с профессиональной реализацией. Первоначально отказывается от обсуждения анамнестических сведений, заявляя о том, что не помнит событий своей жизни до возраста 15-16 лет.
В процессе беседы, однако, нарушений памяти не выявляется. Пациентка излагает анамнез развернуто и последовательно, однако при обсуждении полоролевого поведения и соответствующих переживаний допускает противоречия. Так, первоначально настаивает на том, что «ощущение себя мужчиной» возникло в дошкольном возрасте, но в процессе беседы с обсуждением объективных данных (сведений, полученных со слов родителей, предоставленных фотоснимков, предоставленных пациенткой записей в дневниках и социальных сетях) неохотно признает, что данные переживания возникли лишь в возрасте 15-16 лет, утверждая, что ранее «не задумывалась о своем поле». Отрицает возникновение в прошлом периодов необычного для нее эмоционального подъема с повышением активности и мыслительной деятельности. Об особенностях пищевого поведения говорит также только после предоставления объективных сведений, крайне формально, не поясняя мотивы своего поведения. В целом редко проявляет в беседе инициативу. Результатами обследования не интересуется».
В процессе проведения обследования пациентка намеренно скрыла данные об обсессивных переживаниях, гомицидных влечениях, деперсонализационно-дереализационных переживаниях и самоповреждающем поведении.
Было проведено обследование:
1.Экспериментально-психологическое исследование. Заключение: в ходе психологического исследования у пациентки обнаруживаются особенности протекания психических процессов, характерные для эндогенно процессуального патопсихологического симптомокомплекса на фоне актуальной выраженной депрессивной фазы у личности преморбидно шизонарциссического профиля.
2.МРТ головного мозга: данных за наличие очагового и диффузного характера в веществе мозга не выявлено.
3.Половые гормоны в крови (ЛГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, кортизол, пролактин): отклонений не выявлено.
По итогам обследования состоялся консилиум в составе: психиатр, психиатр-сексолог, клинический психолог, врач-докладчик.
Заключение: «Биполярное аффективное расстройство, текущий эпизод умеренной депрессии» (F31.3). Принимая во внимание данные экспериментально-психологического исследования, а также результаты клинического наблюдения, было рекомендовано катамнестическое наблюдение с целью дифференциальной диагностики с расстройствами шизофренического спектра.
По социальным причинам в течение следующих двух месяцев лечение не проводилось. За этот период состояние пациентки резко ухудшилось. Стала
более замкнутой, отстраненной, мрачной гневливой. Стала много времени проводить в своей комнате. Вновь стала наносить поверхностные порезы на скрытые одеждой участки тела. Помимо воли фантазировала об убийстве членов семьи. С целью снижения эмоционального напряжения просматривала информацию о серийных убийцах – читала их биографии, хронику преступлений, просматривала фотографии жертв. Стремилась к получению сильных эмоций («встряске») через чувство отвращения и страха. Узнав, что у серийных преступников началу гомицидных актов нередко предшествуют представлегния зоосадизма, стала невольно представлять убийство вначале уличных животных, а затем помимо воли – собственной домашней собаки, которую, по ее словам, очень любила.
К январю 2019 г. влечение к убийству домочадцев усилилось. Возник страх причинения вреда членам семьи, о чем, однако, им не сообщила. В этот период увидела возле дома бродячую кошку и испытала выраженное желание «зарезать» ее. В течение двух дней испытывала борьбу мотивов. Со слов пациентки: «Будто что-то заставляло меня это сделать, будто что-то внутри меня уговаривало убить кошку… Возникали мысли: или она или кто-то из домашних». Галлюцинаторных переживаний не описывала. Мыслительный процесс в тот период пациентка охарактеризовала как «неконтролируемый, хаотичный поток». На фоне очередного выраженного усиления эмоционального напряжения приманила животное в квартиру едой, положила в ванну и нанесла восемь ударов ножом. Тело кошки сложила в пакет и отнесла в мусорный бак, ванну вымыла. После обнаружения родителями следов крови в ванной сообщила им о случившемся. Зимой 2019 г. обратились в ЛРНЦ «ФЕНИКС» с целью лечения.
Психический статус. Пациентка явилась на прием в сопровождении родителей. Активно в беседу не вступает. Зрительного контакта избегает.
Одета в несвежую мужскую одежду. Волосы уложены небрежно. Кожа лица бледная. Голос достаточной громкости. Речь монотонная, замедленная. Выражает жалобы на эмоциональную подавленность, ощущение «внутренней пустоты», нежелание жить. Называет себя «не достойным жизни, омерзительным существом». Активно высказывает суицидальные идеи («Хотелось бы перерезать себе горло… Броситься с высокой крыши, чтобы осталось только мокрое пятно на асфальте…»). Свое состояние не связывает ни с полоролевыми переживаниями, ни с разочарованием в связи с отказом выдачи справки об изменении пола. Выражает безразличие к методам предстоящего лечения. На происходящее в кабинете реагирует слабо.
В ответ на попытку обсуждения эпизода с убийством животного начинает плакать. Признает наличие активных гомицидных представлений, возникающих помимо ее воли и воспринимаемых ею резко негативно. Признает желание избавиться от них. Признает, что в процессе предыдущего обращения в ЛРНЦ «Феникс» намеренно исказила анамнестические сведения, скрыв ряд психопатологических переживаний с целью получения справки об изменении пола. Сон резко затруднен. Аппетит снижен. Бредовые идеи не описывает, обманы восприятия отрицает. К состоянию некритична.
Лечение. антипсихотическая терапия: арипипразол до 30 мг/сут (в т ч. в аугментации с клозапином, трифлуоперазином, галоперидолом, клопентиксолом, кветиапином; флуфеназином); сертиндол до 24 мг/сут; кветиапин до 1000 мг/сут; амисульприд до 1000 мг/сут; рисперидон до 8 мг/сут; трифлуоперазин до 30 мг/сут; клопентиксол до 100 мг/сут; галоперидол до 40 мг/сут; клозапин до 100 мг/сут, зипразидон до 160 мг/сут.; карипразин до 6 мг/сут. (в т. ч. в аугментации с тиоридазином, трифлуоперазином, клозапином). Антидепрессанты: кломипранин до 150 мг/сут; венлафаксин до 300 мг/сут (в т. ч. в аугментации с миртазапином); минлнаципран до 100 мг/сут; пароксетин до 40 мг/сут; сертралин до 150 мг/сут; флувоксамин до 200 мг/сут. Нрмотимические препараты: лития карбонат до 1200 мг/сут; окскарбазепин до 1000 мг/сут; вальпроевая кислота до 2000 мг/сут. Анксиолитики: феназепам до 4 мг/сут; клоназепам до 4 мг/сут; диазепам до 30 мг/сут. Корректоры экстрапирамидных расстройств: бипериден до 6 мг/сут. Электросудорожная терапия: 3 курса по 15, 10 и 5 сеансов. Психотерапия: индивидуальная и семейная.
Наблюдение. Пациентка проходила лечение в период с января 2019 г. по август 2021 г. Несмотря на проводимую терапию в течении первых 12 месяцев лечения состояние в целом было подвержено отрицательной динамике. Мысли об аутодеструкции стали постоянными и интенсивными. Эпизоды самоповреждения участились и стали возникать импульсивно, с использованием практически любых острых предметов, к которым пациентка имела доступ ножей, вскрытых консервных банок, гвоздей и т. п. С зимы 2019 г. в речи стала использовать однообразные фразы. Стала стереотипно ходить по комнате, периодически внезапно на короткое время «застывала» на месте и реагировала лишь на повторное обращение.
Аффективные колебания существенно сгладились: доминирующим стало чувство эмоциональной опустошенности с неприязнью к себе, рефлексией, сниженной энергичностью. С весны 2019 г. стала говорить об ощущении внутреннего раздвоения на собственное «Я» и «темную
сущность». Периодически заявляла, что эта «сущность» овладевает ею, управляет ее действиями, принуждает повреждать себя, призывает к причинению вреда родным. Сообщала о возникающем кратковременном ощущении наличия «чужих мыслей» деструктивного содержания. Также периодически испытывала ощущение, что мысли приобретают характер «потока» или «полностью исчезают». К зиме 2020 г. стала эпизодически слышать отрывочные, стереотипно повторяющиеся слова внутри головы. Данная симптоматика, однако, была не стойкой, не имела синдромальной завершенности.
В связи с появлением новых анамнестических данных и изменением клинической картины заболевания решением повторного консилиума диагноз был изменен и сформулирован следующим образом: «Псевдопсихопатическая (психопатоподобная) шизофрения» (F21.4).
В течение периода наблюдения трижды возникали кратковременные, продолжительностью не более 4 недель, периоды улучшения. В это время пациентка прекращала высказывать суицидальные идеи, отрицала их наличие. Отрицала ощущение присутствия «темной сущности», идеи воздействия и галлюцинации. Также в этих состояниях частично дезактуализировались трансролевые переживания: пациентка значительно мягче реагировала на обращение к ней по имени и в соответствии с полом, сама начинала говорить о себе в женском роде.
В течение 2021 г. отмечается медленная, нестойкая положительная динамика на фоне назначения кветиапина в дозе 950 мг/сут. в аугментации с клозапином в дозе 150 мг/сут. Пациентка стала спокойнее, в значительной степени редуцировались аутодеструктивные влечения, полностью исчезли гомицидные переживания и галлюцинации, перестала испытывать чувство «раздвоения».
К лету 2021 г. настроение пациентки выровнялось, нормализовалась активность. Стала формулировать планы. По собственной инициативе трудоустроилась. Стала спокойно реагировать на обращение по имени и в женском роде. Говоря о себе, начала использовать женские родовые окончания. Отказалась от планов о перемене пола. Возникли романтические гомосексуальные отношения. Продолжает наблюдение в Центре.
Разбор случая. Заболевание возникло у девушки-подростка без наследственной отягощенности психическими расстройствами, воспитанной в условиях благоприятного внутрисемейного климата. Преморбидно для пациентки был свойствен удовлетворительный уровень социальной адаптации, в том числе – полоролевой. Основной личностный радикал определить сложно в виду раннего начала заболевания, однако есть основания судить о наличии сенситивных черт характера.
Болезнь дебютировала аутохтонно, исподволь в препубертатном периоде (в возрасте 10-11 лет) преимущественно негативной психопатологической симптоматикой (аутизация, астенические проявления), не достигавшей синдромальной целостности. Дальнейшее течение заболевания характеризовалось постепенным оформлением синдромов и усложнением клинической картины, в первую очередь – за счет возникновения сенситивных идей отношения, элементов дисморфофобической и деперсонализационной симптоматики, нестойких контрастных обсессий. Болезнь манифестировала в пубертатный период (14-15 лет) атипичным депрессивным синдромом с психической анестезией.
Деперсонализационные переживания проявлялись характерным для подросткового возраста образом – апатией, ощущением внутренней измененности, рефлексией, потребностью в абстрактных размышлениях. Вскоре аффективные нарушения приобрели биполярное течение с чередованием атипичных субдепрессивных, гипоманиакальных и смешанных фаз различной амплитуды и продолжительности. В депрессивных фазах с целью временного преодоления эмоциоанльно-волевых нарушений и контрастных навязчивых мыслей стала прибегать к фантазированию на тему самоубийства и агрессивных действий. Утверждение в клинической картине именно данного варианта компенсации произошло случайно, по механизму реакции запечатления.
Фантазии о брутальном самоубийстве выполняли функцию противовеса реальным суицидальным влечениям, отличаясь от них условно контролируемым характером. Фантазируя об уходе из жизни по собственному желанию, пациентка иллюзорно восстанавливала ощущение власти над своим будущим и в дальнейшем использовала это в качестве своеобразной психологической защиты. Так, устанавливая дату совершения самоубийства, она, таким образом, устанавливала временные рамки своих страданий и мотивировала себя на их преодоление. Кроме того, воображая уничтожение собственного тела, она, по-видимому, стремилась к разрыву связей с текущим негативным
состоянием. Фантазии об убийствах, при которых она идентифицировала себя со «страшным», «ужасным», «недостойным» человеком, отражали крайне негативное отношение пациентки к жесткости и служили для преодоления ею апатии посредством переживания отрицательных эмоций.
Таким образом, первоначально ауто- и гетероагрессивное фантазирование выступало в роли ритуального действия, однако в процессе развития болезни закономерно само приобрело навязчивый характер. Обсессии суицидального и агрессивного содержания, сопровождающиеся внутренним напряжением, обусловили стремление пациентки к их компенсации – вначале посредством коррекции поведения (изменение круга общения), аддикции (виртуальный дрейф), попыток «переключения» с негативных эмоцинальных ощущений на физические (скрытая аутодеструкция), а затем – через обретение иной идентификации.
Выбор нового варианта самопозиционирования в данном случае определялся влиянием дисморфофобии и негативной психопатологической симптоматики как первичной, так и вторичной (обусловленной аффективной патологией депрессивного полюса). В попытках преодолеть усиливающиеся трудности мотивации, постепенное снижение творческого потенциала, элементы социального дрейфа и навязчивые мысли, пациентка стремилась к подражательному поведению. При этом важное значение имел отклоняющийся характер объекта имитации, способный своей необычностью, через аффективную реакцию, обеспечить временную компенсацию апатии и навязчивостей. Так, первым явным и стойким способом компенсации (ритуалом второго порядка) стало изменение питания и внешности посредством экстремальных диет. Динамика сужения рациона, а также присоединение к пищевым девиациям других поведенческих аномалий (несвойственное ранее увлечение спортом, ограничение сна и т. п.) происходила синхронно прогрессии эмоционально-волевых и идеаторных нарушений. Компенсаторное поведение приобрело отчетливые черты сверхценного самосовершенствования. Одновременно менялась и идентификация пациентки: приверженец здорового образа жизни – вегетарианка – веган – сыроед – фруктоед и т. д. При этом каждый из вариантов позиционирования был сопряжен с необходимостью следовать весьма необычным, но четко регламентированным алгоритмам поведения и был направлен на достижение ментального благополучия в
неопределенном будущем. Следует полагать, что надежда на восстановление контроля над эмоционально-волевой и когнитивной сферами через физическую трансформацию стала для пациентки наиболее эффективным способом преодоления страданий, вызванных неуклонно прогрессирующим психопатологическим процессом.
После вынужденного отказа от пищевого ритуала произошла декомпенсация эмоционально-волевых нарушений с актуализацией анестетической депрессии и контрастных навязчивых аутодеструктивных и гомицидных представлений. В процессе поисковой активности в виртуальном пространстве по механизму реакции запечатления возникла фиксация на полоролевых нарушениях: первично на томбоизме, а затем – на трансгендерности. Идентификация себя с трансгендерами была обусловлена ошибочной ретроспективной интерпритацией эпизодов отклоняющегося полоролевого поведения, ощущением собственного отличия от сверстников («инакости»), недифференцированным стремлением
к трансформации, дисморфофобическими переживаниями, инфантильным либидо, поверхностным изучением информации на эту тему.
Так, общение в компании мальчиков, в последствии трактуемое пациенткой в качестве транссексуальной гетеросоциальности, в действительности было обусловлено стремлением к формализованному, ограниченному рамками полоролевых норм общению со сверстниками. Ее «инакость», проявляющаяся в недостаточной синтонности и сниженной эмпатии, при группировании среди мальчиков была скрыта за полоролевыми отличиями, в то время как в однополой группе проявляла себя более ярко и ограничивала коммуникацию. В пользу данного утверждения свидетельствует динамика изменения круга общения пациентки. По мере взросления и постепенного углубления аутизации общение с девочками сменилось смешанной компанией, далее – группированием среди мальчиков, а затем – социальной пассивностью и практически полной изоляцией.